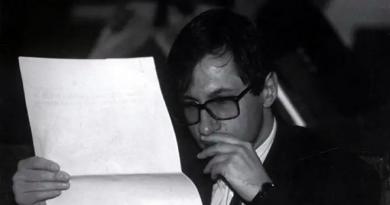Оксана Базилевич: «В театральный институт меня за шкирку втащил милиционер. Полет - свободный Как погиб сын аллы осипенко
Алла Евгеньевна Осипенко, история жизни которой будет описана в статье, - легенда театра, яркая звездочка среди балерин. Она была ученицей А. Вагановой, участвовала в постановках выдающихся хореографов своего времени. Своей грацией и драматическим талантом она покорила как жителей РСФСР, так и зарубежную публику.
Алла Осипенко: биография
Алла родилась в Ленинграде 16 июня 1932 года. Она жила с матерью, няней, бабушкой Марией и двоюродной бабушкой Анной.
Мать Осипенко происходила из семьи Боровиковских. В предках у балерины были художник Владимир Лукич Боровиковский, поэт Александр Львович и фотограф Александр Александрович - тоже Боровиковские. Отец Аллы был из украинских дворян. В 37-м его посадили за то, что он начал публично поносить Советскую власть и требовать освободить царских офицеров. Мать развелась с ним. Потом, когда пришло время получать паспорт, несмотря на просьбы матери, Алла оставила за собой отцовскую фамилию, - она посчитала что иное решение будет предательством.
Призвание
Воспитывали девочку строго. Она почти все время проводила со взрослыми, ее не выпускали даже во двор. А ей не хватало общения с ровесниками, ее строптивый характер требовал вырваться из-под чрезмерной опеки. Случай представился в первом классе - она прочитала о хореографическом кружке и уговорила родных позволить ей туда вступить. Лишь бы хоть пару раз в день возвращаться позднее, не сидеть в четырех стенах! Но сама девочка в ту пору от танцев была далека - балериной хотела стать ее мать, а не она.
Но благодаря кружку Осипенко Алла Евгеньевна нашла свое призвание. Ее учитель отметил ее таланты и уговорил мать отдать свою дочь в хореографическое училище. Ее зачислили туда 21 июня 1941 года, а 22 июня началась война.
Детей перевезли в Кострому, затем в Молотов (ныне Пермь). Балету учили сначала в церкви, затем, когда их перевезли в Курье, - в бараках. «Голод и холод», - вспоминает о тех временах Алла. Ученики занимались, зачастую не снимая пальто и варежек. То были тяжелые времена, но именно в эвакуации, а возможно, благодаря ей, Осипенко навсегда влюбилась в искусство.

Новый этап
После училища Осипенко Алла пришла в Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Ее работа здесь далеко не всегда складывалась гладко. Первым испытанием стало тяжелое повреждение ног. Молодая двадцатилетняя Осипенко на волне вдохновения после репетиции, не сошла - выпрыгнула из троллейбуса… и почти на полтора года была вынуждена забыть о сцене. Лишь упрямство помогло ей вернуться. По ее словам, этот случай помог ей осознать, чего на самом деле она хочет.
Кировский театр оказался тяжелой школой. Он требовал особого, пробивного характера. Но вне сцены Алла была отнюдь не бойцом, напротив. Она верила критикам, подвергавшим сомнению ее таланты. Приходилось выкладываться и физически - репетиции занимали почти все время.
Венцом ее творчества стала роль в «Каменном цветке» (1957), где она танцевала в образе Хозяйки. На следующий день она проснулась знаменитой. Сама Осипенко Алла однажды заметила, что слава, возможно, пришла к ней не столько из-за таланта, сколько из-за оригинальности образа. Впервые балерина вышла на сцену лишь в одном обтягивающем трико.

КГБ
Успех имел обратную сторону. Во-первых, ее стали считать актрисой одного амплуа. Во-вторых, ее слава привлекла внимание КГБ. Особенно строго ее стали контролировать после 1961 года, когда ее партнер бежал из СССР. Алла была свидетелем этого бегства - знаменитого «прыжка» Нуреева.
Это произошло во время гастролей. Нуреев отказывался следовать распорядку, за что его решили отослать обратно в Москву. Но Нуреев хотел продолжить гастролировать. Он сумел вырваться и бросился к самолету, в котором его товарищи отбывали в Лондон. Не успел - и там же, в Париже, попросил политического убежища. Позднее в СССР, несмотря на его отсутствие, Нуреева осудили на семь лет за измену родине. Алла выступала его защитником.
Тем временем с Аллы в буквальном смысле не спускали глаз. В Лондоне ее поселили в отдельной комнате. Выпускали и запирали ее на ключ, нигде не оставляя без сопровождения. Она вынуждена была скрываться от поклонников, а на запросы журналистов неизменно отвечали, что Осипенко Алла не может дать интервью, так как она «рожает». В дальнейшем ей разрешали посещать лишь социалистические страны.
Алла и раньше испытывала терпение КГБ. Во время ее первых гастролей в Париже, еще в 1956 году, она (первая среди советских балерин) получила премию А однажды, выполняя просьбу знакомой, передала посылку ее сестре, сбежав при этом от наблюдателей - через черный ход.

Л. В. Якобсон
В Кировском театре Осипенко Алла сыграла в немалом количестве постановок, среди них - «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Золушка», «Отелло», «Легенда о любви». Но тяжелая атмосфера, скандалы, напряженные отношения с руководством, творческая неудовлетворенность - все это породило в балерине непереносимую усталость. Спустя 21 год работы в театре она его покинула.
Вместе с партнером Джоном Марковским она присоединилась к труппе Л. В. Якобсона, к его «Миниатюрам». Это был рискованный шаг - постановки Якобсона постоянно подвергали цензуре, выискивали в них признаки антисоветчины, пытались запрещать. Бунтарский характер балерины проявился и здесь. Когда комиссия запретила танцевальный номер «Минотавр и нимфа» за его «эротизм», Алла вместе с хореографом бросилась к председателю горисполкома К их удивлению и радости, номер разрешили поставить.
Характер у Якобсона был тяжелый. Он готов был репетировать в любое время, круглые сутки. Причем репетиции проходили в маленьком неудобном помещении. Хореограф заставлял актеров полностью отдаваться работе, действовать практически на износ, до полной отдачи. Выполнять сложные, почти невозможные движения. Но Алла была рада работе с Якобсоном. Она считала его гением, боготворила его и даже была немножко в него влюблена. Так возникли постановки «Жар-птица», «Лебедь» и «Идиот», который Якобсон поставил специально для Осипенко. Но отношения балерины и хореографа постепенно дали трещину.
Когда в 1973 году Осипенко вновь получила травму, Якобсон не захотел ждать ее выздоровления.

Конец карьеры
Покинув Якобсона, Осипенко и Марковский оказались на улице. Это было трудное время, работы почти не было. Удача улыбнулась им в 1977 году, когда они сошлись с хореографом Б. Я. Эйфманом, став ведущими актерами его труппы «Новый балет». Там балерина работала до 1982 года. Но это был уже конец ее карьеры, во многом предопределенный ее разрывом с Марковским.
В дальнейшем Алла пробовалась в кино - «Голос» Авербаха, полуобнаженная Ариадна в «Скорбном предчувствии» А. Сокурова. Театральные постановки. Затем, после Перестройки, Осипенко уехала за границу, где долго преподавала хореографию. Продолжила она заниматься этим и в России.
Любовь
Балерина Алла Евгеньевна Осипенко была замужем несколько раз. Трагический след в ее жизни оставила смерть ее единственного сына, рожденного от актера Геннадия Воропаева.
Более известно ее супружество с Джоном Марковским. Их блестящий дуэт называли «парой века». Алла называла Марковского своим самым лучшим партнером. По ее словам, в танце они словно становились единым целым. В первый раз они выступили вместе в Перми, и тогда же начался их роман, хотя она была старше на двенадцать лет. Они были вместе 15 лет. После разрыва с ним Алла не смогла найти себе другого такого же партнера, по ее словам, это стало их концом как танцоров.

Учителя и кумиры
Кумиром балерины долгое время была Наталия Дудинская. Осипенко страстно подражала ей. Подражание сослужило плохую службу - ведь оно мешало проявить собственную индивидуальность, и Алле пришлось переучиваться. Были у нее и другие кумиры среди балерин, например, Вера Арбузова.
Среди людей, которые подтолкнули ее талант, Алла особенно отмечает Бориса Фенстера. В свое время он увидел и помог раскрыть способности девочки. В то время ее называли «девочка с веслом», потому что она была слишком пухленькой для балерины. Но Фенстер заметил ее и предложил ей роль Панночки в «Тарасе Бульбе». Он стал строгим наставником, заставившим ее не только похудеть, но и задуматься о себе.
Очень помогла балерине и Лидия Михайловна Тютина. Во многом благодаря ей Осипенко смогла вернуться после травмы.
Нельзя не упомянуть и Агриппину Ваганову. Она была строгим учителем, часто кричала на свою ученицу и нередко замечала, что та благодаря своему характеру закончит жизнь в мюзик-холле. Но при этом она была замечательным, неординарным педагогом.

Балерина - это звание
Как отметила в одном из интервью сама Алла Осипенко, балерина - это звание, а не профессия. И чтобы ею стать, нужен характер. Осипенко всей своей жизнью доказала это утверждение. Успех и неудачи, счастье и драма - все это сформировало ее такую неординарную личность.
Родилась и росла Оксана Базилевич в Рязани. Появилась на свет девочка в день рождение своей матери, этим сделав ей большой подарок. Отец был военным врачом, а мать работала в профсоюзной организации – руководителем. Несмотря на то, что у родителей профессии не были творческими, ещё с молодости они мечтали стать артистами, но по разным причинам их желание не исполнилось.
В их доме всегда царила весёлая атмосфера, где пели, танцевали, устраивали спектакли и вечера поэзии, показывали кукольный театр. Мать играла на фортепиано, а отец владел игрой на гитаре. Росла Оксана Базилевич здоровым послушным ребёнком. Никогда не плакала, и от неё не было никогда проблем.
С раннего детства у девочки менялись предпочтения к будущей профессии. То она мечтала быть актрисой, то балериной, то певицей, то, как отец, врачом. Насмотревшись на родителей, часто дома устраивала спектакли и концерты. Уже в четыре года Оксана пробовала ставить свои постановки для себя и друзей.
В школе Оксана Базилевич всегда принимала участие в школьных мероприятиях и конкурсах талантов. На них она пела, танцевала, показывала фокусы, играла сценки и даже была ведущей. Была активной, весёлой, но при этом дерзкой, посещала пионерские лагеря.
В восьмом классе Оксана была уверенна, что хочет стать актрисой. Но отец считал, что нужно сначала выучиться на серьёзную профессию. Окончив школу в 1986 году, девушка решила пойти учиться на филологический факультет в Рязанский институт, но проучилась там только год.
Уже 1987 году Оксана поехала в Ленинград, где с первого раза поступила на актерское отделение в Институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Первые два курса училась Оксана в мастерской Заслуженного деятеля искусств и профессора Аркадия Иосифовича Кацмана, а после его смерти, с третьего курса его заменил театральный педагог и профессор Вениамин Михайлович Фильштинский.
Студенткой девушка была непредсказуемой, взбалмошной, много хулиганила, но ей всё прощалось. В 1991 году Оксана стала дипломированной актрисой, успешно окончила вуз. Окончание института Оксаны совпало с развалом Советского Союза в 1991 году. Большинство артистов остались без работы.
Художественным руководителем труппы был Виктор Крамер, один из выпускников института. Со своими спектаклями театр выступал с гастролями не только по стране, но и по всей Европе (Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Англии и другим странам). Артисты труппы вместе с Оксаной, успешно выступая, исколесили полмира. Среди спектаклей театра были: «Гамлет» (Офелия), «Фантазии, или Шесть персонажей в ожидании ветра» (Девочка с мечтой), Вохляки из Голоплёков (Долорес), «Стриптиз» (Рука).
Кроме этого, актриса принимала участие в постановках Драматического театра на Литейной, в театре Ленсовета, театре Комиссаржевской, театре Райкина, в «Таком театре», проекте «Театральный марафон» и многих других. Среди них были такие роли:
- «Король Лир» (Корделия);
- «Пять вечеров» (Тамара);
- «Сон в летнюю ночь» (Титания, Ипполита);
- «Заповедник» (Татьяна);
- «Время и семья Конвей» (Миссис Конвей);
- «Феномены» (Елена).
Также актриса участвовала в проектах: «Отечество и судьбы», «Недлинные истории». В кино Оксана дебютировала в 1991 году в российско-французской социальной драме «Чекист» , где сыграла роль жены Срубова. Режиссёром фильма был Александр Рогожкин. Потом у актрисы был перерыв до 1997 года из-за театральной деятельности. В 1997 сыграла в картине «Американка» (Антонина) и «Анна Каренина» (США, Варвара).

Свои первые главные роли актриса сыграла в 2002 году в киноработах «Недлинные истории» и «Нож в облаках», благодаря этим образам стала известной.
Также снималась во многих телевизионных проектах : «Вовочка»(2000-2004), «Шахматист»(2004), «Двойная фамилия»(2006), «Сильная»(2011), «Один на всех» (2012) и криминальных драмах « », « », « » и многих других.
Интересные заметки:
С 2014 по 2016 год актриса снялась в детективном сериале «Такая работа» , где сыграла главную для себя роль в новом амплуа – полковника полиции Валентину Калитникову.
Последние фильмы, в которых снялась актриса за последнее время: «Инспектор Купер», «Крылья империи», « », « », «Я выбираю тебя», «Огненный ангел» и много других. Оксана прекрасная и сильная актриса, очень востребована в своей профессии, её фильмография насчитывает более 120 работ.
Личная жизнь
Оксана Базилевич вдова. На втором курсе вуза на даче друзей Оксана познакомилась с будущим мужем Иваном Воропаевым (1963-1997 годы жизни). Иван был сыном Заслуженного артиста Воропаева Геннадия Ивановича (1931-2001 годы жизни) и знаменитой балерины Осипенко Аллы Евгеньевны (1932 года рождения).
Иван также окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа (тоже учился в мастерской Кацмана А.И.), но работать по специальности не стал, занялся своим бизнесом. Влюбились друг в друга с первого взгляда и вскоре поженились.

В 1990 году 10 октября у них родился сын, которого назвали Данилой. Жили они счастливо, но недолго. В 1997 году супруг Оксаны скончался от внезапного внутреннего кровотечения , не успев даже попрощаться. Актрисе на тот период было 28 лет. С воспитанием сына помогали бабушки и дедушки, а также друзья по работе.
Кроме общеобразовательной школы мальчик посещал ещё и музыкальную (класс виолончели), а также другие творческие кружки. Окончил кадетский корпус и институт культуры. С 2012 по 2018 Данила много и регулярно снимается в кино. Актриса в 2013 году стала молодой бабушкой, сын подарил ей внучку Марию.
- Сегодня Оксана живёт вместе со своей свекровью Аллой Осипенко в небольшой квартире. Она ухаживает за звездой балета, их связало общее горе.
- Рост Оксаны Базилевич – 178см, вес – 68кг.
- Оксана занимается озвучиванием.
- Является лауреатом нескольких театральных премий и наград.
- Актриса увлекается написанием стихов, а также рисованием. Очень серьёзно относится к своему хобби – написанию картин.
- Интересуется фитотерапией, разбирается в травах, любит их собирать.
Фильмы Оксаны Базилевич
| Год | Фильм | Роль |
| 1991 | Чекист | жена Срубова |
| 1992 | Рин. Легенда об иконе | эпизод |
| 1997 | Анна Каренина | Варвара |
| 1997 | Американка |
Антонина, старшая сестра Лёшки |
| 2000 | Агент национальной безопасности — 2 |
Элла (15 серия «Смертник») |
| 2000 | Лариса | |
| 2000 | Вовочка | мать Любочка |
| 2001 | Элла | |
| 2001 |
Жанна Юрьевна |
|
| 2001 | Механическая сюита |
стриптизёрша Ася |
| 2001 | Ключи от смерти | жена Забусова |
| 2001 | Спецотдел |
Эльвира Станиславовна |
| 2002 | У нас все дома |
агент риэлторской конторы |
| 2002 | Агентство «Золотая пуля» | Инга |
| 2002 | Нож в облаках |
Тамара Монтесума |
| 2002 | Недлинные истории |
Маша, жена Ребротёсова |
| 2003 | Особенности национальной политики | переводчица |
| 2003 | Улицы разбитых фонарей | Светлана |
| 2004 | Женский роман | Людмила |
| 2004 | Шахматист |
Маргарита Михайловна Ратникова |
| 2004 | На вираже | Алёна |
| 2004 | Принцесса и нищий |
Лариса, привокзальная бомжиха |
| 2005 | Риэлтор |
Елена Павловна Грачёва |
| 2005 | Брежнев |
ведущая концерта |
| 2005 | Братва |
следователь Панаренко |
| 2006 | Лабиринты разума | эпизод |
| 2006 | Травести | Котэк |
| 2006 | Секретные поручения |
Лидия Николаевна |
| 2006 | Опера-2. Хроники убойного отдела |
Ольга Дробышева |
| 2006 | Мечта | эпизод |
| 2006 | Двойная фамилия |
Марина Воздвиженская |
| 2007 | Поводырь | Марина |
| 2007 | Любовь под надзором | Анна |
| 2007 | Литейный, 4 (1-й сезон) | Светлана |
| 2007 | Ирония судьбы. Продолжение |
проводница в поезде |
| 2007 | Варварины свадьбы | Аврора |
| 2008 | Холмы и равнины (Украина) |
Наташа, мать Тани |
| 2008 | Начать сначала. Марта (Россия, Украина) |
Елена Власова, бывшая артистка |
| 2008 | Куклы колдуна |
Надежда Викторова |
| 2008 |
Зоя Семенцова, актриса |
|
| 2008 | Гаишники (Россия, Украина) |
Антонина Петровна |
| 2009 | Фокусник |
Маргарита Ивановна |
| 2009 | Стерва (Россия, Украина) | Зинаида |
| 2009 | Смерть Вазир-Мухтара |
Алла Осипенко в год своего 75-летия удивляется, что сегодня всех называют легендами, в то время как она себя всегда считала обыкновенной танцовщицей. К слову «балерина» она относится с трепетом, осознавая всю значимость этого статуса. И все же легенда русского балета Алла Осипенко сегодня испытывает новое рождение в «своей педагогической жизни»: с сентября она начала работать репетитором в Михайловском театре, который многие еще знают как Театр Мусоргского. В первой балетной премьере сезона – «Жизели» Адана – она приняла участие, подготовив многих танцовщиц, вспоминая о своих уроках в Гранд-опера, куда ее в свое время устроил работать Рудольф Нуреев.
– Алла Евгеньевна, у вас невероятно драматичная биография┘
– Говорят, что за что-то всегда надо платить. Но ту расплату, которую понесла я┘ Я не понимаю – почему. Все мы грешные, но это самая страшная кара – гибель моего сына. Я не ортодоксальная, хотя выросла в семье верующих, крестили меня в 1937 году 5-летней девочкой. Но на этот вопрос ответить не могу... Не так давно я вернулась к себе той, прежней. Я всегда знала, что обо мне никто никогда не похлопочет, никогда ничего не дадут, чтобы меня хоть как-то заметить. Я знала, что все в моих ногах, которые как-то оценивались. И я это очень хорошо понимала. Мой последний педагог Марина Шамшева, с которой я занималась 10 лет, всегда говорила: «У вас красивые ноги. Продавайте их задорого».
– Вы говорите так, словно пишете роман в устном жанре. При этом мемуаров у вас нет.
– У меня были написаны две главы, которые назывались «Париж в моей жизни». Я писала их в Париже, когда мне делали операцию. Я была абсолютно одна, ходила гулять в Люксембургский сад, где и начала писать. Мой большой друг, которой давно нет в живых, – Нина Вырубова, балерина Гранд-опера вдохновила меня, сказав: «В Париже у вас столько знакомых, сядьте и напишите, вам все равно нечем сейчас заняться». Я писала не столько о себе, сколько о людях, с которыми удалось встретиться. В этих воспоминаниях – лица первой эмиграции. Я была знакома и со светлейшим князем Голицыным, и с Бобринским, и Шереметевыми, вспоминаю о Елене Михайловне Люком, которая в 1956 году попросила меня отвезти подарок ее сестре, эмигрировавшей во время революции. При всех ужасах и страхах я все-таки дошла до сестры – ночью пробралась, пешком и отдала подарок. В последнее время мне говорят, что я обязательно должна написать продолжение этих воспоминаний. Я пишу как говорю, проблем в этом отношении у меня нет. Но я прекратила писать, когда погиб сын. Мне не для кого стало что-либо рассказывать, а я писала для сына.
– О чем вы не смогли написать в своих парижских воспоминаниях в силу времени?
– Я как раз вспоминала обо всем очень детально – там все сказано. Но любопытно, что совсем недавно Мариинский театр не взял эту книгу в продажу. Директору фонда Константину Балашову сначала было сказано, что книга должна пройти пять инстанций – какие, не сказали. Пять инстанций книга прошла, после чего выяснилось, что осталась еще шестая. Шестая не пропустила. Я предположить не могла, что там помнят историю 1971 года – мой уход из театра. Но лично я в этой книге об этом ничего не пишу – у меня про отношения с театром нет ничего. Я вспоминаю свой золотой век. А о том, как театр мог расстаться с такими танцовщиками, как Нуреев, Барышников, Макарова, Осипенко, упоминают те, кто вспоминает обо мне. Поэтому в тяжбу с театром вступили они. Но если я сейчас буду писать про театр, так я уж напишу.
– На чем заканчиваются две главы ваших воспоминаний?
– Нить рассказа прерывается 1956 годом. В 1956 году Леонид Мясин, который был тогда директором Ballet russes в Монте-Карло, предложил мне годовой контракт. Представляете – в 1956 году! Мне 24 года. Я согласилась. Но прежде позвонила бабушке – спросить, можно ли на год остаться в Париже. Они долго мучились с ответом, но решили, что на год можно. С Мясиным мы репетировали «Видение розы». После чего я все-таки сказала сопровождающим, что обратно не поеду, что останусь. На что получила от него в ответ: «Что, хочешь сейчас улететь и никогда больше не приезжать с гастролями?» Я извинилась перед Мясиным, сказала, что у меня много работы. Мы снова встретились с ним в 1961 году, я спросила, как у него дела, а он мне: «А я ушел, потому что не нашел настоящей русской балерины. А мне нужна была вы, русская, петербургская танцовщица». В Париже остался Нуреев. И после этого я все равно стала невыездной. В течение 10 лет меня никуда с театром уже не брали.
– Как вы сегодня оцениваете, что не остались за границей?
– Я все сделала совершенно правильно. Когда говорят, что мы строим свою судьбу – ничего подобного. Судьба распоряжается нами.
– Каким вам запомнился Рудольф Нуреев?
– Вероятно, он понимал, что доставил мне некоторые жизненные трудности, что из-за него я «полетела». И он воздал мне тем, что было в его силах. Спустя 28 лет с того момента, как я стала невыездной, а он остался во Франции, попросив в 1961 году политического убежища, в 1989 году в Париже, у себя дома, он устроил мне день рождения. В том же году он предложил мне работать репетитором в Гранд-опера. Я ему сказала: «Рудик, я не умею давать уроки! У меня нет практики». – «Я вам помогу». Я ему очень благодарна. Он мне воздал в моей второй жизни – педагогической – то, что у меня отняли в танцевальной. В Гранд-опера он ходил на мои уроки, после каждого говорил мне, чему их надо и чему не надо учить, – консультировал меня. Он очень поддержал мое положение благодаря тому, что приходил на мои уроки, хотя в Париже меня очень многие знали как танцовщицу. Можете себе представить, что я училась преподавать на французских танцовщицах в Гранд-опера? Совсем недавно, когда в Петербурге в Михайловском театре давала мастер-классы французская балерина из Гранд-опера, которая помнит меня, выяснилось, что наши уроки очень похожи. Я не учила системе, системе Вагановой, ни тогда, ни сейчас: я ее не знаю – я стиль знаю. Но Ваганова была гений. Сейчас девочкам в Михайловском театре я стараюсь передать то, чему научилась в Гранд-опера. Русские руки, которые Ваганова как с молоком матери дала, я не потеряю. Но ногам Агриппина Яковлевна в те годы не уделяла такого внимания, какое уделяют и уделяли французы. Рудольф Нуреев говорил, что мечтает о школе, где будут русские руки и французские ноги.
– Ноги, кажется, самое главное в балете┘
– Да, это очень важно. Сейчас для меня главное – постараться научить, чтобы они любили свои ноги так, как нужно их любить, чтобы зрителю они их «продавали задорого», как говорила мне Марина Николаевна Шамшева. Я никогда не была зашоренной лошадью и не говорила, что мы – лучшие в мире. Я хотела научиться тому, чему мы не научились здесь. Мои уроки совсем не похожи на те уроки, которые дают сегодня в Петербурге. Они похожи на уроки в Гранд-опера. А руки для меня остаются главными: выразительность рук и корпуса. Гармония и кантилена корпуса – это наше, к этому весь мир стремится.
– В «Жизели», которую в Михайловском театре недавно поставил Никита Долгушин, в ком-то ваши уроки уже проявились?
– В ком-то, безусловно, уже проявились. Мне повезло, потому что я работаю с девочками, которые слушают меня и верят – и Настя Матвиенко, и Ира Перрен, и Ольга Степанова.
– Сегодня есть русские балерины, которых когда-то не хватило Леониду Мясину?
– С вашей стороны это провокационный вопрос, на который, наверное, я не имею права отвечать. Балерина – это балерина Императорского театра. Но никакие они не были «божественные». Они были просто балерины – им присуждалось это звание. Кшесинская, Павлова. Сосчитать можно по пальцам. Сегодня же все – балерины. Для меня все они – танцовщицы. Сейчас маленькие девочки говорят: «Я – балерина». Мы так не отвечали. Где вы учитесь? Я – балерина, учусь в хореографическом училище. Теперь это Академия русского балета. Все изменилось сейчас.
Санкт-Петербург
Балет - это вся моя жизнь.
Алла Осипенко
Алла Евгеньевна родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. Ее родственниками были художник Боровиковский (его работы выставлены в Третьяковской галерее), популярный в свое время поэт Боровиковский, пианист Софроницкий. В семье придерживались старых традиций - принимали гостей, ходили к родственникам на чаепитие, вместе садились ужинать, строго воспитывали детей…
Две бабушки, няня и мама зорко следили за Аллой, оберегали от всех напастей и не пускали ее гулять одну, чтобы девочка не подверглась тлетворному влиянию улицы. Поэтому большую часть времени Алла проводила дома со взрослыми. А ей так хотелось в компанию, к ровесникам! И когда она, возвращаясь из школы, случайно увидела объявление о записи в какой-то кружок, то упросила бабушку ее туда отвести - это был шанс вырваться из четырех стен и попасть в коллектив.
Кружок оказался хореографическим. И через год занятий педагог настоятельно посоветовал показать Аллу специалистам из балетного училища, так как обнаружил у девочки "данные".
21 июня 1941 года стал известен результат просмотра - Аллу приняли в первый класс Ленинградского хореографического училища, где преподавала Ваганова (сейчас это Академия русского балета им. Вагановой).
На следующий день началась война. И Алла вместе с другими детьми и педагогами училища срочно отправилась в эвакуацию сначала в Кострому, а затем под Пермь, куда потом к ней приехали мама и бабушка.
Занятия велись в спартанских условиях. Репетиционным залом служило промерзшее овощехранилище, оборудованное в церкви. Чтобы держаться за металлическую перекладину балетного станка, дети надевали на руку варежку - такой холодной она была. Но именно там, по признанию А.Е. Осипенко, у нее проснулась всепоглощающая любовь к профессии, и она поняла, "что балет - это на всю жизнь". После снятия блокады училище и его воспитанники вернулись в Ленинград.
Хореографическое училище Алла Осипенко закончила в 1950 и тут же была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.
Все поначалу складывалось удачно, но когда она после генеральной репетиции первого большого спектакля "Спящая красавица" - 20-летняя, вдохновленная - ехала домой на троллейбусе, то в порыве чувств не вышла, а выпрыгнула из него. В результате - тяжелое лечение поврежденной ноги, полтора года без сцены… И только упорство и сила воли помогли ей вновь встать на пуанты. Потом, когда с ногами стало совсем плохо, операцию за границей ей оплатила ее подруга, замечательная балерина, Наталья Макарова.
В Кировском балете в его лучшие годы все отдавались служению профессии и творчеству. Репетировать артисты и балетмейстеры могли даже ночью. А одна из постановок Юрия Григоровича с участием Аллы Осипенко вообще рождалась в ванной коммунальной квартиры одной из балерин.
Своеобразным венцом творчества А. Осипенко является Хозяйка Медной горы в балете "Каменный цветок" на музыку Прокофьева. В Кировском театре его поставил Григорович в 1957, и после премьеры Осипенко стала знаменитой. Эта роль совершила своеобразную революцию в балете Советского Союза: Мало того, что партия хранительницы подземных сокровищ - сама по себе необычная, так еще, чтобы усилить достоверность образа и сходство с ящерицей, балерина впервые вышла не в привычной пачке, а в обтягивающем трико.
Но через некоторое время небывалый успех в "Каменном цветке" обернулся против балерины - ее стали считать актрисой определенного амплуа. Вдобавок после побега Нуреева на Запад в 1961 Алла Евгеньевна долго была невыездной - на гастроли ее выпускали лишь в некоторые соцстраны, на Ближний Восток и по родным советским просторам. Были моменты, когда Аллу Евгеньевну запирали в номере, чтобы она за границей не последовала примеру неблагонадежных товарищей и не осталась в капиталистическом мире. Но "выкинуть фортель" и до введения "драконовских мер" Алла Осипенко не собиралась - она всегда любила родину, тосковала по Петербургу и не могла оставить родных. При этом Осипенко считала, что бежать Нуреева вынудили, и добрых отношений она с ним не порывала.
Скрывая истинную причину недоступности удивительной балерины западной публике, "ответственные товарищи" ссылались на то, что она якобы рожает. И когда в Ленинграде ее разыскивали дотошные иностранные коллеги - мастера мирового балета, то первым делом выясняли, сколько у нее детей, так как в их прессе сообщалось об очередных родах балерины Осипенко.
Репертуар Аллы Евгеньевны большой и разнообразный: "Щелкунчик", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Чайковского, "Бахчисарайский фонтан" Асафьева, "Раймонда" Глазунова, "Жизель" Адана, "Дон Кихот", "Баядерка" Минкуса, "Золушка", "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Спартак" Хачатуряна, "Отелло" Мачавариани, "Легенда о любви" Меликова… В Малом театре оперы и балета она исполнила Клеопатру в спектакле "Антоний и Клеопатра" по трагедии Шекспира…
После 21 года работы в Кировском театре Осипенко вынуждена была его покинуть. Уход ее был сложным - все слилось воедино: творческие причины, конфликт с руководством, унизительная атмосфера вокруг… В заявлении она написала: "Прошу уволить меня из театра по творческой и моральной неудовлетворенности".
Алла Евгеньевна была замужем несколько раз. И ни про кого из бывших мужей не сказала плохого слова. Отцом ее единственного и трагически погибшего сына стал актер Воропаев (многие помнят его - спортивного и статного в фильме "Вертикаль")
Супругом и верным партнером Аллы Евгеньевны был танцовщик Джон Марковский. Красивый, высокий, атлетически сложенный и необычайно одаренный, он невольно привлекал внимание женщин, и многие, если не все балерины, мечтали с ним танцевать. Но, несмотря на заметную разницу в возрасте, Марковский предпочел Осипенко. А когда она ушла из Кировского театра, ушел вместе с ней. Их дуэт, просуществовавший 15 лет, называли "дуэтом века".
Марковский говорил про Осипенко, что у нее идеальные пропорции тела и поэтому танцевать с ней легко и удобно. А Алла Евгеньевна признавалась, что именно Джон был самым лучшим ее партнером, и ни с кем другим ей не удавалось достичь в танце такого полного телесного слияния и духовного единения.
После увольнения из Кировского театра Осипенко и Марковский стали солистами труппы "Хореографические миниатюры" под руководством Якобсона, который специально для них ставил номера и балеты.
Как известно, необычное и новое во все времена понимается не сразу и прорывается с трудом. Якобсона травили, не желая воспринимать его необыкновенно выразительный хореографический язык и неистощимую творческую фантазию. И хотя его балеты "Шурале" и "Спартак" шли на сцене, но и их заставляли перекраивать. С другими его произведениями было еще хуже - чиновники разных инстанций постоянно выискивали в танцах признаки антисоветчины и безнравственности и не допускали к показу.
Когда совершенно не разбирающаяся в искусстве партийно-комсомольская комиссия углядела в танцевальном номере "Минотавр и нимфа", поставленном Якобсоном, "эротику и порнографию" и исполнение балета было категорически запрещено, то от отчаяния и безысходности Алла Евгеньевна вместе с хореографом кинулась к председателю Ленинградского горисполкома Сизову.
"Я балерина Осипенко, помогите!" - выдохнула она. "Что вам нужно - квартиру или машину?", - спросил большой начальник. "Нет, только "Минотавра и нимфу"… И уже когда она, радостная, с подписанным разрешением, уходила, Сизов окликнул ее: "Осипенко, а может, все-таки квартиру или машину?" "Нет, только "Минотавра и нимфу", - вновь ответила она.
Якобсон - талантливый новатор - обладал ершистым, резким и жестким характером. Он мог воплотить в хореографии любую музыку, а придумывая движения, создавая пластические формы и выстраивая позы, требовал от артистов полной отдачи и порой даже нечеловеческих усилий в процессе репетиций. Но Алла Евгеньевна, по ее словам, была готова на все, лишь бы этот гениальный художник творил с ней и для нее.Так родились "Жар-птица" (Стравинский, 1971), "Лебедь" (К. Сен-Санс, 1972), "Экзерсис-ХХ" (Бах), "Блестящий дивертисмент" (Глинка)… И Алла Евгеньевна начала видеть в балете иные горизонты и возможности.
В 1973
Осипенко вновь получила тяжелую травму и некоторое время не могла репетировать. Ждать балетмейстер не захотел, сказав, что калеки ему не нужны. И вновь Осипенко ушла, а за ней и Марковский. Они участвовали в сборных концертах Ленконцерта, а когда работы для них было совсем мало, ездили выступать по отдаленным сельским клубам, где порой было так холодно, что впору было танцевать в валенках. В 1977 началось сотрудничество с талантливым хореографом - Эйфманом, в труппе которого под названием "Новый балет" они стали ведущими артистами.
Были еще и другие партии. Но опять неожиданное и свежее наталкивалось на бюрократические препоны. Так, миниатюра "Двухголосие" на музыку группы "Pink Floyd", снятая на пленку, была уничтожена.
Алла Евгеньевна считает, что хореография и сценические страдания должны иметь сюжет, но при этом, повторяя слова Ю. Григоровича, добавляет, что не нужно "рвать страсти и грызть кулисы", а следует и в танце сохранять свое достоинство и быть сдержанной. И это у нее получалось. Зрители и коллеги подмечали ее особую манеру исполнения - внешне несколько статичную, а внутренне - страстную. Ее исполнение было глубоко драматичным, а движения необычайно выразительными. Не случайно про нее говорили: "Только увидев, как танцует Осипенко, понимаешь, что техника Плисецкой небезупречна".
С Эйфманом Осипенко проработала до 1982. Среди ее партнеров были Барышников, Нуреев, Нисневич, Долгушин, Чабукиани, Лиепа…
Осипенко никогда не боялась кинокамеры. На кинопленке запечатлены не только балетные партии А. Осипенко, но и ее роли в художественном кино. Дебютной ее ролью стал эпизод в фильме Авербаха "Голос". А чаще всего она снималась в фильмах Сокурова. Первым из них стал фильм "Скорбное бесчувствие", где она играет роль Ариадны и предстает перед зрителями полуобнаженной. Из-за негодования блюстителей морали этот фильм-притча по мотивам пьесы Шоу "Дом, где разбиваются сердца вышел на экраны лишь в 1987, несколько лет пролежав на полке. Сокуров восхищался актрисой, утверждая, что не встречал людей такого масштаба, как Алла Осипенко.
Балерина неизменно тепло и с глубоким чувством благодарности вспоминает о своих педагогах и тех, кто так или иначе помог ей в профессии. Эти люди учили ее преданности профессии, трудолюбию, упорству, интересу к литературе, живописи, архитектуре, музыке и воспитывали личность, умеющую фантазировать, рассуждать и отстаивать собственное мнение. У Осипенко хранится кольцо Анны Павловой, которое ей передали как творческой наследнице великой балерины.
С приходом перестройки жить на грошовую пенсию Алле Евгеньевне - народной артистке РСФСР, лауреату премии им. Анны Павловой Парижской академии танца, диплом о присвоении которой в 1956 году ей вручил Серж Лифарь, а также премии "Золотой софит" с формулировкой "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" и обладательнице многих других наград - стало просто невыносимо, ей необходим был заработок. Больше 10 лет она проработала педагогом во Франции, Италии, США, Канаде и других странах.
Сегодня Алла Евгеньевна продолжает активную деятельность - работает педагогом-репетитором и поддерживает преемственность поколений в балете, возглавляет благотворительный фонд, участвует в различных театральных постановках, снимается в кино и для телевидения…
Она всегда элегантна, стройна и неустанно поддерживает форму, хотя и отдала балету и сцене уже больше 60 лет своей жизни. Осипенко говорит, что в настоящей балерине должна быть магия, как была она в Дудинской, Уланова, Плисецкой… В ней эта магия, несомненно, есть.
Журнал «Собака.ru» продолжает проект – серию интервью, в которых с выдающимися актрисами беседуют известные журналисты, режиссеры и артисты, – и публикует диалог балерины и актрисы Аллы Евгеньевны Осипенко с танцовщиком и художественным руководителем балета Михайловского театра Фарухом Рузиматовым.
Ученица Агриппины Вагановой, она была примой балета Театра имени С. М. Кирова, солисткой труппы «Хореографические миниатюры» под руководством Леонида Якобсона, ведущей танцовщицей Ленинградского ансамбля балета Бориса Эйфмана. А кинорежиссер Александр Сокуров разглядел в ней талант драматической актрисы и снял ее в четырех своих фильмах.
Вы считаете себя великой?
Если говорить о величии, то посмотрите: вот кольцо, которое я ношу всегда. Мне его подарил индийский танцовщик Рам Гопал. А ему его подарила Анна Павлова, с которой он когда-то танцевал. И для меня это, вероятно, главный подарок и признание. Это гораздо важнее всяких званий и наград.
Когда меня спрашивают, как я попал в балет, я всегда отвечаю: «Меня поймали в горах». А как вы стали балериной? Кто вас подвигнул поступать в балетное училище?
Род моей мамы идет от известного русского художника, мастера портрета и религиозной живописи конца XVIII – начала XIX века Владимира Лукича Боровиковского, о котором сейчас, к сожалению, не много вспоминают. Он был человек очень сложный, многогранный, талантливый, прошедший невероятно трудный жизненный путь. У него был брат – великий украинский поэт Левко Боровиковский, тоже человек не самого благополучного характера. И моя родословная по материнской линии ведется от них. Мама носила эту фамилию, а у меня уже фамилия отца – Осипенко. Сегодня я прихожу к мнению, что дело все-таки в генах. Мне по наследству досталась склонность к бунтарству, к постоянному творческому поиску. Я росла бунтаркой. Близкие говорили: «Ну и урод ты у нас в семье растешь!» Моя мама в свое время пыталась поступить в Императорское театральное училище. Тогда надо было ездить по всем балеринам и собирать у них рекомендации. Маме не хватило одной, и ее не взяли. Конечно, вся семья это запомнила. Но меня это абсолютно не волновало. До двух лет я была страшно кривоногой девочкой. И все вокруг говорили: «Бедная Ляляшенька! Такая славная девочка, но балериной ей точно не быть!» Воспитывали меня строго. Мои бабушки всегда говорили, что пережили пять царей: Александра II, Александра III, Николая II, Ленина и Сталина. Наша семья не приняла революции и не меняла уклада своей жизни. И я росла в ее замкнутом кругу. Во двор гулять меня не пускали. А я была девочка строптивая и искала повод, чтобы как-то вырваться из-под этой опеки. Учась в первом классе, я где-то увидела объявление о наборе в кружок, в котором было написано какое-то странное слово, значения которого я не поняла. Но поняла, что два раза в неделю смогу приходить домой на три часа позже. Это меня очень устроило. Я пришла к бабушке и сказала, что хочу ходить в этот кружок. Кружок оказался хореографическим, именно этого слова я не знала. И бабушка меня туда отправила, решив, что, раз не получилось у дочки, может получиться у внучки. После первого года занятий мой педагог вызвал ее и сказал: «У вашей внучки отвратительный характер. Она все время спорит, ее вечно что-нибудь не устраивает, но попробуйте-ка отведите ее в балетное училище». 21 июня 1941 года нам сообщили, что меня приняли в училище. А на следующий день сообщили другую новость: началась война.
Известно, что каждая роль накладывает отпечаток на характер артиста. Была ли на вашем творческом пути такая роль, которая поменяла вас кардинально?
Да. Первым человеком, который поставил меня на другие рельсы, увидел во мне что-то новое, был талантливейший балетмейстер советского периода Борис Александрович Фенстер. Я же была пухленькой для балерины, и меня называли девушкой с веслом. Он сказал мне: «Алла, ты знаешь, я хочу попробовать тебя на роль Панночки». А Панночка в балете «Тарас Бульба» – это очень серьезный, противоречивый, сложный образ. И я жутко боялась не справиться. Сегодня же считаю, что это была, во-первых, моя первая большая удача, а во-вторых, первая настоящая драматическая, сложная роль. Мы репетировали с ним по ночам, я очень старалась, и что-то его тогда увлекло в моей индивидуальности. Вот это и была самая важная роль, заставившая меня глубоко задуматься о своем характере. Я очень благодарна Борису Александровичу за то, что он полностью поменял мое амплуа. Он заставлял меня худеть, не давал мне есть и из девушки с веслом сделал приличную Панночку.
Вопрос, который всегда раздражает артистов: вы подражали кому-нибудь из балерин?
К сожалению, подражала. К сожалению потому, что меня от этого потом очень долго избавляли. Я была поклонницей великой балерины Натальи Михайловны Дудинской, которая была
примой Театра оперы и балета имени Кирова. Я до такой степени поклонялась ее таланту, что подражала ей во всем. В технике я, конечно, подражать не могла, потому что не справлялась с
ее техникой, но, во всяком случае, переняла все ее манеры. И
когда это стало раздражать моих педагогов, когда они увидели
во мне что-то свое, это было просто подарком судьбы. Репетиторам пришлось очень долго вышибать из меня Дудинскую. Я
помню, что, когда Константин Михайлович Сергеев, главный
балетмейстер театра и муж Натальи Михайловны, ввел меня в постановку «Тропою грома», где я должна была танцевать с ней вместе, она заставляла меня в точности повторять все ее
движения. На одной из репетиций Сергеев попросил ее: «Наталья Михайловна, оставьте ее в покое, пусть она делает все так,
как сама это чувствует».
Что вам сложнее всего было преодолеть на своем пути?
Мне приходилось преодолевать свое техническое несовершенство до самых последних выходов на сцену. Я, к сожалению, никогда не владела техникой в нужной степени. Но прежде всего мне приходилось преодолевать свой характер. Я была страшно неуверенным в себе человеком.
А с ленью не приходилось бороться?
Лень присутствовала до первой травмы. После того как в двадцать лет у меня случилась первая травма, мне сказали, что я больше не выйду на сцену. Я не смирилась с этим. И вернулась другим человеком, осознав, что без балета не могу жить.
Ощущение уверенности на сцене возникало? Обретало ли оно с годами какую-то форму именно на сцене?
Вы знаете, мне, конечно, повезло больше, чем другим балеринам, в том плане, что балетмейстеры ставили роли на меня,
рассчитывая мои технические возможности. Эта уверенность
стала приходить, наверное, после того, как я ушла из Театра
оперы и балета имени Кирова, когда попала к Леониду Вениаминовичу Якобсону, когда начала работать с Борисом Яковлевичем Эйфманом, когда мы взялись за «Идиота» Достоевского. Только тогда я начала чувствовать себя на сцене уверенно, а надо было уже уходить. Вот ведь в чем вся беда.
А страх перед сценой испытывали?
Да. Страх присутствовал постоянно. Я не могу передать, как мне становилась страшно, когда я слышала аккорды музыки, под которые должна была выходить на сцену. Я говорила: «Все, я ухожу! Я ни за что не выйду на сцену!» Меня охватывала жуткая паника. А сейчас я смотрю на молодых балерин и удивляюсь тому, как смело они выходят на сцену, как уверенно держатся! Мне перешагнуть барьер страха перед сценой всегда было крайне тяжело. Потом на сцене я как-то успокаивалась, конечно. Но вот момент, когда ты слышишь свою музыку и должен выйти, не зная, что тебя ждет на этот раз, я переживала очень тяжело. Ведь весь ужас актерской профессии в том, что мы не знаем, что нас ждет через пять минут. Может быть, носом упадешь, а может, станцуешь прекрасно. Мы никогда не знаем этого заранее. Нет абсолютно никакой возможности предугадать события. Можно быть очень хорошо подготовленным и тем не менее споткнуться. Правда, спектаклей в Ленинградском театре современного балета, которые ставились на меня и в которых я танцевала со своим партнером и мужем Джоном Марковским, я ждала уже с нетерпением. Научилась смело выходить на сцену и получать от танца с Джоном настоящее удовольствие. Какие бы отношения ни складывались между нами, как между мужем и женой в жизни, на сцене все было по-другому. Можно было не смотреть друг другу в глаза, но наши тела и нервы действительно сливались в единое целое. Так и получается настоящий дуэт.
В балете, на ваш взгляд, существует понятие безусловного гения, когда о танцовщике или о танцовщице можно сказать:
вот он – гений чистой красоты?
Ну, Фарух, если быть честными и откровенными, кого мы можем назвать безусловными гениями?
Мое восприятие субъективно, как восприятие любого человека, но на меня еще в юные годы самое сильное впечатление произвел Антонио Гадес, когда я увидел его в «Кармен» Карлоса Сауры. Для меня это было безусловным искусством, высшей точкой понимания и принятия его творческой личности. И я, наверное, могу назвать безусловными гениями балета его и Рудольфа Нуреева.
Да, они обладали ошеломляющей магией воздействия на зрителя. Но у меня был другой такой человек, которому удалось действительно поразить мое воображение. Когда я была в 1956 году в Париже, то попала на сольный концерт – а для нас это было тогда понятием совершенно незнакомым – французского танцовщика Жана Бабиле. И я была ошеломлена выразительностью его тела, выразительностью мысли, которую он доносил до зрителя. Много лет спустя мы с ним встретились, и я призналась, что являюсь очень большой его поклонницей. Признание таланта, кстати, получилось взаимным. И я никогда не забуду то счастье, которое испытала в далеком 1956 году.
В спектаклях вы играли саму себя или все-таки персонажей?
По молодости, в начале своего творческого пути, конечно, играла персонажей. Когда на исходе карьеры судьба подарила мне «Идиота», я отмела все костюмы, прически, шляпки и юбки. Я считала, что Настасья Филипповна – это образ на все времена и на все возрасты, не нуждающийся в каком-либо обрамлении. И, выходя на сцену играть этот спектакль, я выходила играть себя.
Артистам со временем становится скучно танцевать классику. Их тянет на модерн, на неоклассику, а потом и в драму, и в кино. Такие этапы в жизни были и у вас. Какие ощущения от работы в кино вы получили? Работа перед камерой сильно отличается от работы на сцене?
Это две совершенно разные вещи. Но с кино мне тоже повезло. Мне повезло потому, что я начала работать с таким режиссером, как Александр Сокуров. Он меня увидел в «Идиоте» и пригласил сняться в «Скорбном бесчувствии». Я ужасно волновалась, в первую очередь потому, что для балерины, у которой развита зрительная память, запоминать такие огромные тексты – большая проблема. В пробах вместе со мной участвовала сама Маргарита Терехова. Я нервничала на съемках и все время спрашивала у Сокурова: «Саша, ну что мне сделать? Что я должна сделать?» А он мне отвечал: «Алла Евгеньевна, не нервничайте, не дергайтесь. Вы мне нужны такая, какая вы есть». Он научил меня быть естественной перед камерой. И я не боялась. Могла перед ней делать все, что угодно. Сокуров попросил раздеться догола – разделась догола. Сокуров попросил прыгнуть в ледяную воду и плыть – прыгнула и поплыла. Во-первых, ради Сокурова, а во-вторых, потому, что не было абсолютно никакой боязни.
Ваша любимая актриса?
Грета Гарбо.
А балерина?
Солистка Театра балета Бориса Эйфмана – Вера Арбузова.
Что для вас значит такое веское слово «профессионал»?
Для меня профессионал – это служащий. Человек, служащий тому делу, которому он посвятил свою жизнь.
Какие качества должны быть у хорошего, профессионального педагога?
Вспоминая своих педагогов, я все-таки думаю, что учителя не должны нарушать индивидуальности своих учеников. Работая с балеринами, я стараюсь придерживаться этого принципа. Только так можно воспитать в артисте личность. А это главная задача любого педагога.
Вы живете прошлым, будущим или настоящим?
Сложный вопрос. Не могу не думать о будущем. По ночам просыпаюсь, когда вспоминаю, сколько мне лет. Но, пожалуй, сейчас я стала больше жить прошлым. А вообще, стараюсь жить сегодняшним днем, с радостью работаю в театре со своими девочками.
Что бы еще вы хотели реализовать в настоящем?
Однажды такой же вопрос мне задал Эйфман, а мне тогда было уже сорок пять лет. И я призналась ему, что хотела бы сыграть Настасью Филипповну. И я ее сыграла. Сейчас я ни о чем не мечтаю. Все мои мечты уже либо сбылись, либо ушли в прошлое, так и не реализовавшись. Единственное, чего мне хочется, чтобы появилась такая балерина, с которой я бы работала, отдавая ей максимум, и чтобы она этот максимум от меня взяла. Пока такого не получается.
Насколько я вижу, те балерины, с которыми вы работаете, пока не звезды мировой величины, но делают заметные успехи.
Мне интересно работать с моими ученицами. Во-первых, я стараюсь увести их от той мишуры, которая мне самой мешала в
их годы. Во-вторых, я никогда не настаиваю, никогда не говорю: «Делай только вот так!» Я говорю: «Давай попробуем?» Они соглашаются, и когда совместными усилиями у нас все получается, им это тоже доставляет огромную радость. Увидеть
эту радость – самый приятный момент в работе педагога.
Вас тянет на сцену? Вам хочется выступать перед публикой?
Если я скажу, что не тянет, я совру. Вот собираюсь участвовать в новом проекте Михайловского театра «Спартак». Я пока еще не понимаю до конца, какой это будет спектакль, но с удовольствием хожу на репетиции. Ведь если ты можешь выйти на сцену, то почему бы не выйти? Пускай скажут, что я сумасшедшая, ненормальная, наглая. Пускай говорят что угодно за моей спиной, мне это совершенно неинтересно. Мое желание – выйти еще раз на сцену. Я хочу, чтобы этот спектакль был не просто зрелищным, но и содержательным, осмысленным, чтобы он дал возможность увидеть в классике что-то новое.
Вы считаете, что искусство балета сейчас в упадке?
Я не могу так сказать. Просто наступил тот момент, когда надо остановиться, оглянуться назад и понять, как нам идти дальше.
Вы бы хотели заняться чем-то кардинально другим?
Нет. Балет – это вся моя жизнь. Это то, что дает мне сегодня возможность выжить. Выжить, не спиться и не сойти с ума. Вставать каждое утро и идти в театр, потому что меня в нем все еще ждут.